Время просвещения и бесконечное бремя желаний
2 апреля, 2019
АВТОР: Ирина Вишневская

Просвещение — слово-то какое! Просве-щщение, запре-щщение. Посконное, пылью пустых книжных полок пахнущее.
Департаментом, совиными крылами, беликовыми, наро-дико-образом пахнет. Понедельником.
Но ведь и Прокоповичем пахнет тоже, облупленными башмаками с пряжками Михал Василича на Моховой и Кантемиром пахнет.
Пахнет двумя томами малой французской энциклопедии, на послевоенные копейки купленными моей героической тёткой, в семнадцать лет ушедшей с румынским языком на Таманский фронт.
И еще раньше… по дороге на Бугры, в пыли Боровского шоссе ветер шевелит страницы большой книги со следами тележных колёс, той самой, выброшенной из высоких окон пустого дома Обнинских.
Там теперь другой город. Обнинск. Другие времена.
Отчего же рецензия известнейшего писателя Адама Гопника, — постоянного автора журнала The New Yorker: — на две книги американских авторов, приводимая здесь в сокращении, так деликатно касается темы французского Просвещения? Оттого что упоминание «Академии Ортодоксии», как величают теперь в академиях Нового Света движение Просвещения — предтечу американской демократии — взывает у академиков «нового феминизма» резкое неприятие как виновного во всём, что произошло в мире мысли и чувств в предыдущие три столетия.
Но за Дидро обидно!
В 2013 году, в день трёхсотлетия со дня рождения Дени Дидро правительство проигнорировало требования перезахоронить его прах в Пантеоне, рядом с Руссо и Вольтером.
Обошлись присвоением новой станции метро Reuilly-Diderot. Имени великого человека (даже здесь оно значится вторым, через чёрточку). Чьи труды стоят наравне с трудами Плиния старшего и Френсиса Бэкона.
Как человек разума Денис Дидро стал радикалом
Adam Gopnik, The New Yorker, March 2019.
-
Импрессариум великого Просвещения был также автором
порнографических и философских памфлетов, и узником тюрьмы.
Плохие времена настали для Времени Просвещения. На множестве постмодернистских семинаров и в бесчисленных ревизионистских исторических трудах — правых, равно как и левых, гуманистическое движение, которое в семнадцатом веке, казалось бы, омыло Европу светом разума в борьбе за науку против предрассудков за свободу мысли, предстало вдруг в роли злодея. Веру мыслителей Просвещения в победу разума — их надежды на то, что «любые страсти одолеет разум», пользуясь словами просвещённого Айры Гершвина, — посчитали ответственными за расизм, колониализм и за множество других действительно вредных измов.
Упорядоченность идей Просвещения принято сейчас считать чуть ли не директивой для умножения насилия, осуществляемое новыми средствами. Оказывается, истинный символ эпохи Просвещения не мирный Храм Разума, а Panopticon — недреманное око образцовой тюрьмы Иеремии Бентама. Если Европа до-Просвещения была жестока спорадически, то Европа пост-Просвещения бесчеловечна систематически. Если Европа до-Просвещения местами страдала предрассудками, то эра Просвещения заболела системным расизмом, выстроив «научную» иерархию для оправдания империализма. «Разум» стал синонимом буржуазного гнёта, «триумф науки» — ширмой для более изощрённых форм социального подчинения.
Допустим, все мнения вызывают контрмнения, и в этом состоит один из уроков Просвещения.
Сегодня мнения — всё реже производные от идей тогдашней «Академии Ортодоксии» — они обильно процветают вне её. Вот отчего мнение все чаще отступает перед густым напором массовых воодушевлений. Вне «академий» идеи Просвещения не просто хорошо пахнут, они даже благоухают дорогим парфюмом. Вольтер только за одно прошедшее десятилетие удостоился издания пяти доступных и, в целом, позитивных биографий, а самый блестящий из всех просветителей, Дени Дидро, только что представлен с любовью в двух превосходных томах, написанных американскими учёными для широкой публики: Andrew S. Curran — “Diderot and the Art of Thinking Freely” (The Press) и Robert Zaretsky — “Catherine & Diderot” (Harvard).
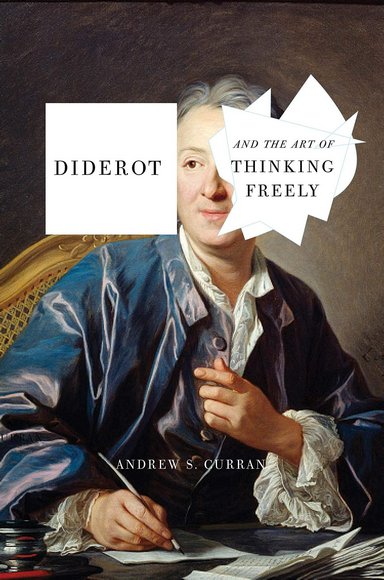
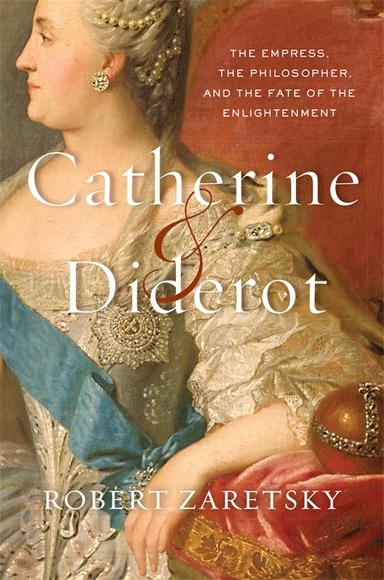
Дидро памятен рядовому читателю, главным образом, как создатель не имеющей аналога Энциклопедии, ибо никакой другой encyclopedie не существовало. Поскольку Энциклопедия представляет собой массивный компендиум всякого рода знаний и плотный сгусток гуманитарной мысли, поэтому туманная память человечества сохранила Дидро суперменом эпохи Просвещения, этаким занудой с большой книгой. Судя по двум новым биографическим трудам, он вовсе не такой сухой рационалист, приверженец умственного тоталитаризма, а привлекательный и обаятельный дилетант, со своим мнением на все происходящее вокруг.
Он прежде всего мужчина; при том мужчина чисто французский, — подчёркивает Заретски.
Обаятельный и безупречный образчик — существенно более совершенный, чем колючий Вольтер — французский интеллектуал особой породы, ещё не полностью исчезнувшей. Амбициозный, ироничный, до крайности озабоченный сексом (его знаменитая новелла целиком посвящена тайным признаниям женских гениталий), и одновременно нежный любовник; человек, одержимый страстью к звучным морализаторским абстракциям на бумаге и падкий на приземлённый реализм в жизни; яростно агрессивный в литературных нападках и болезненно чувствительный к критике; способный внезапно прервать долгую череду искусных светских двусмысленностей краткими взрывами эмоций.
Говорят, что существуют две разновидности Просвещения — одно низкое, другое высокое.
Высокое Просвещение — это Просвещение, продуцировавшее серьёзные сочинения и господствующие идеи. Низкое или популярное Просвещение — это такое, каким его толковали все последние полстолетия авторы, — столь отличные от Юргена Хабермаса и Роберта Дантона — Просвещение памфлетов, порнографии и бесед в кофейнях.
До того момента, когда в сороковых годах семнадцатого века Дидро было предложено заняться изданием Энциклопедии, он представлял собой фигуру низкого Просвещения, и мог показаться непригодным для роли энциклопедиста. Повеса родом из богатой провинциальной буржуазной семьи, удравший из адвокатской конторы, где числился учеником, завсегдатай кафе, известный своим остроумием, приятный светский собеседник. Его дружба с Жан-Жаком Руссо, длившаяся почти двадцать лет — дольше, чем иная другая, не выдержавшая неровности характера паранойяльного швейцарского философа, — началась с их встречи за кофе над шахматной доской в «Кафе де ла Режанс», одном из тех парижских кафе, что сгрудились вокруг Пале Рояля, резервуара светского капитала энтузиастов Просвещения.
Вокруг сочинений Дидро возникла такая сильная притягательная аура, что идеализированный портрет работы Фрагонара Читатель за книгой — без парика, с открытым воротом, пылающим взором и кривой усмешкой — ошибочно, до 2012 года, приписывался Дидро (сохранившаяся гравюра на фронтисписе к его сочинениям не передает этого впечатления).
Но именно так должен быть выглядеть Дидро:

Он начал увлекаться женщинами с ранних лет, и они отвечали ему тем же. (Его нелепая женитьба на действующей прачке благородного происхождения не была большой удачей: Тойнетт затевала перебранки на улице с его любовницами).
Дидро обладал особым шармом, способностью скрывать свой ум под маской доброжелательности. Инстинкт подсказывал ему, что симпатию скорее завоёвывает тот, кто достаточно умён, чтобы выказывать доброжелательность там, где другой пытается завоевать симпатию, выказывая свой ум. Испытывая одиночество среди равных себе, он отлично понимал, что пустая болтовня может оказаться столь же значительной.
«То, что мы пишем, оказывает влияние только на определённый класс граждан, — написал он однажды о своём окружении, — тогда как наши беседы влияют на всех остальных».
Он считал, что лучи гражданского общества, расходясь из узких кружков парижских кафе на более широкую публику, могут изменить общественное мнение, и верил, что «эффект малого числа людей, думающих прежде, чем что-нибудь сказать, их продуманные выводы или их ошибки, распространяясь от человека к человеку до городских пределов, становятся символом веры». Мысли порождают речь; речь порождает мысли.
Однако попивая кофе и беседуя, невозможно заработать на жизнь — в особенности после того, как буржуазный папаша Дидро отказал сыну в наследстве за его богемный образ жизни. Он стал, не щадя сил, писать разнообразные эссе и делать переводы, сочинял памфлеты, политические диалоги и порнографические брошюры, — одновременно вступая в романтические связи с разного сорта партнёршами, начиная с местных прачек и кончая читательницами-аристократками.
Его состояние выросло за счет его первого хита — Les Bijoux Indiscrets — “Нескромные жемчужинки”, прихотливый вариант «Опасных связей». Хотя Les Bijoux обрели репутацию «непристойной классики», у этого сочинения были более чем респектабельные предшественники: непременной темой французского Просвещения было убеждение в том, что виды любви и знание о ней, формы чувственных желаний и формы научных описаний могут быть связаны самым тесным образом.
И всё же «Нескромные жемчужинки», пожалуй, самое странное сочинение среди подобного рода трудов философской порнографии эпохи французского Просвещения. Оно повествует о некоем султане (явный намёк на Людовика ХV) , завладевшем магическим перстнем, с помощью которого он побуждает, или принуждает (сексуальная политика еще не определилась), те самые bijoux делиться своими интимными историями.
Жемчужины, нимало не смущаясь, подробно рассказывают об изменах своим официальным «владельцам» мужска рода. Эти альковные откровения, не рассчитанные на шоковую реакцию, были поданы как банальные истины, дающие повод для более смелых спекуляций: («духовность до двух-трех лет обретается в подошвах; в возрасте четырёх лет она перемещается на голени; а в пятнадцать поднимается до колен и бёдер»). В апофеозе сюжета сон султана – соитие порнографии и философии, — который в современных терминах мог бы написан разве только Карлом Поппером в коллаборации с Терри Сазерном . Султану снится Платон с учениками, пускающие мыльные пузыри в храме Гипотезы , упиваясь пустыми философскими беседами. Внезапно является фаллическая фигура, растущая прямо на глазах.
«Что это, — спросил я Платона,- что за фигура приближается к нам?»
«Это и есть сам Опыт», — отвечает мне Платон.
Триумф Опыта (что по-французски означает так же Эксперимент), оснащённого телескопами и маятниками, над Гипотезой, — воплощён в явно эротических образах: Просвещение как эрекция, а новые науки в виде Cialis (современного средства, повышающего эректильную функцию). Andrew Curran уверяет нас, что «Les Bijoux», пусть даже вызывающая разночтения, «для академий гендерных исследований настоящая приманка, то же, что для кошки кошачья мята. По мнению одних, Дидро допускает фаллоцентричную терпимость по отношению к женской секуальности —поскольку жемчужинок «принуждали» к исповеди. Альтернативное и, в целом, наиболее устойчивое мнение гласит, что в данный период это произведение следует рассматривать как сущностно феминистский трактат: женской сексуальности допускается открыто заявлять о своих эротических аппетитах свободно, без боязни изменить своим «хозяевам».
Дидро был бы доволен, что его толкуют именно так. Он приветствовал наслаждение и, слывя распутником, не отказывал своим любовницам в праве на аналогичные проявления чувств. Он также считал верным трактовать гомосексуализм как естественный продукт человеческой психологии. «Всё сущее не может быть противно природе или быть вне природы», — писал он об однополой любви. Просвещение от Дидро освещало взаимные и нескрываемые наслаждения.
При всём несомненном удовольствии от жизни, философы Просвещения, прилагая перо к бумаге, всякий раз ставили под угрозу свою жизнь и свою свободу. Как об этом упорно напоминает Andrew Curran, скептическое отношение к религии влекло за собой риск тюремного преследования.
В 1749 году Дидро был арестован и без суда и следствия заключён в венсенский тюремный замок за свои скептические и атеистические памфлеты; в частности, за написанное в том же году «Письмо о Слепых», своеобразную смесь ранней Психологии восприятия и полемики, разоблачающее суеверия в христианстве («Слеп не только тот, кто не может видеть, но и тот, кто не желает видеть»).
Франция периода Просвещения была совсем не такой, какой была Советская Россия; её властные источники были рассыпаны повсюду, завися от капризов протекций и прихоти аристократии, достаточно богатой, чтобы, в определённых границах, чувствовать себя независимой от Короля. (Благосклонность Мадам де Помпадур, любовницы Людовика XV, впоследствии оказалась жизненно необходимой для дальнейшего издания Энциклопедии). Руссо навестил Дидро в его узилище, а Вольтер, восхищённый его памфлетом, уговорил Маркизу де Шатле, свою блестящую любовницу и физика, написать прошение о смягчении тюремного содержания Дидро.
И всё же угроза тюремного заключения или ссылки полностью не ослабла.
Церковь, пользуясь гражданскими инструментами, регулярно сажала в тюрьмы, угрозами физического насилия преследовала проводников новых знаний. То, с чем уживался Дидро, было не вялая разочарованность или снисходительная толерантность либеральных элит, на которые сетует сейчас христианская церковь. Это была настоящая охота за подозреваемыми в еретических помыслах, неутолимая жажда заковать, заткнуть рты и уничтожить их книги.
Порнограф, полемист, узник совести — казалось бы, не совсем подобающее C.V. для издателя энциклопедии. Те не менее, когда в 1747 году Дидро было предложено заняться проектом её издания (вначале обновление старой английской, затем создание новой Французской Энциклопедии), Дидро с жаром ухватился за эту задачу и не отступал от неё, — сталкиваясь со спорадическими преследованиями, непостоянным штатом сотрудников и непомерным грузом амбиций — до тех пор, пока она не осуществилась: два десятка томов, 72 тысячи статей, 3 тысячи иллюстраций — компендиум учёности, справочник по всем отраслям знаний.
Энциклопедия немедленно стала всеобщим достоянием и предметом культа. Это был призыв ко всем овладевать доступными науками. В наше время её могут читать только специальные эксперты Энциклопедии. Curran признаёт, что многословие статей и великолепие иллюстраций, прославляющих устаревшую технику и ремёсла, граничат с сюрреализмом классифицированной бессмыслицы. С другой стороны, автор замечает, что замысел Энциклопедии, далёкий от намерения исполнять роль интеллектуального надсмотрщика над непослушным миром на манер Паноптикона, на самом деле изощрённо изобретателен, крайне эклектичен и по своей природе неразрывно целостен. Он являет собой сборник «блестящих провокаций, сатир и иронии», как её характеризует Andrew Curran.
Дабы обезопасить себя от обвинений в отсутствии пиетета, благочестивым католикам были заказаны библейские истории. Одна из таких трезвых и пространных статей, посвященная архитектуре Ноева ковчега и логистике отсеков для животных, была рассчитана на понимание читателей её очевидной абсурдности. Более тонкий расчёт Дидро состоял в том, как полагает автор, что он настоял на алфавитном принципе, «имплицитно отвергающем заведенный порядок отделения монархических, аристократических и религиозных ценностей от всего, что связано с буржуазной культурой и отечественными промыслами». Теологии и мануфактуре, потиру и карете пришлось соседствовать на равных основаниях. Непонятно куда, в высшие сферы или низшие могло занести вас, стоило перелистать страницу.
Энциклопедию можно было читать также различными способами, пользуясь ссылками. Дидро оснастил текст россыпью перекрёстных ссылок, примечаний, зачастую туманных, с целью доказательства, что изучение одного объекта может случайно натолкнуть на изучение другого объекта.
«Во все времена, — пояснял Дидро. — Грамматика могла привести нас к Диалектике; Диалектика к Метафизике; Метафизика к Теологии; Теология к Юриспруденции; Юриспруденция к Истории; История к Географии и Хронологии; Хронология к Астрономии…»
Такая система носила черты ненавязчивого руководства; она предполагала, что Гипотеза может развиться и превратиться в Опыт.
Как бы то ни было, Энциклопедия — семнадцать томов которой, с множеством иллюстраций, были изданы к 1765 году — никогда не была рассчитана на её окончательное завершение. В ней намеренно были оставлены статьи, полные противоречий и загадок, как подчёркивает автор, c умыслом поднять спорные проблемы в рамках знаний того времени. Это была поистине открытая книга, зовущая к новым научным открытиям.
Andrew Currаn проделал гигантскую работу, разбирая безумно запутанную историю публикации Энциклопедии. Одно время, как мы узнаём, Римский папа объявил её богопротивной: обладатели хотя бы единственного тома были обязаны передать его пастору для сожжения. Дидро и его сотрудники обходили запретительные меры, исполняя поистине замысловатые фигуры, пользуясь легальными приёмами, позволявшими, к примеру, печатать во Франции, а официально публиковать в Швейцарии.
Сurran приводит доказательства, что завершение издания Большой Книги обязано в значительной мере забытому широкой публикой шевалье Луи де Жокуру (Louis de Jaucourt ), кавалеру, практикующему врачу и эрудиту, предоставившему для неё 17 тысяч статей gratis! Жокур был к тому же одним из самых страстных аболиционистов во Франции 18-го века. Идеи аболиционизма чётко отразились на содержании последних томов Энциклопедии, открытой, плюралистической, антисословной. Таким образом, «тоталитарный документ абсолютистского Просвещения» оказался во всех смыслах манифестом свободы.
Дидро обязан своей cлаве «человека Энциклопедии», благодаря которой он пережил один из самых красочных эпизодов в его жизни, получив в 1773 году приглашение прибыть в Россию в качестве наставника, ментора и просвещённого правоведа к Екатерине Великой. Этот эпизод, длившийся пять месяцев, стал по существу основным сюжетом книги Роберта Заретски, который использовал счастливый случай, чтобы с пристрастием взяться за описание карьеры Дидро, влияния идей Просвещения на российскую культуру. Сюжет поистине завидный, недаром он не раз становился объектом других исследований, не говоря о блестящем романе британского писателя Малкольма Брэдбери в духе Стоппарда.
На редкость странная игра судьбы: Дидро, человек Просвещения, враг деспотизма, флиртует с деспотом. Честно говоря, мечта о благоразумном монархе, который осчастливит мир, даруя здравые законы своим послушным гражданам, так же стара, как Древняя Греция, как легенда об Александре и его наставнике Аристотеле. Нечто подобное, заранее обречённое на неуспех, было предпринято в 1740 году Вольтером с Фридрихом Великим.
История искушения Вольтера Фридрихом легко объяснима: чужие похвалы всегда могли завести Вольтера куда угодно. Дидро хорошо знал себе цену: похвалы могли завести его куда угодно, но не всегда. Его симпатии были ограничены теми, кого он любит, как самого себя; симпатии Вольтера ограничивались любящими его. Взаимоотношения Вольтера и Фридриха развивались, стремительно падая вниз, от взаимного увлечения к обоюдному отвращению. Взаимоотношения Дидро с Екатериной — и этот аспект удачно описан в романе Брэдбери — отличались полумерами, колебаниями, ироническими отступлениями, погружением в самопознание. Дидро играл в её игру, она — как это ни удивительно — в его.
Как это блестяще продемонстрировал Заретски, Дидро, в дискуссии об эпохе «географической философии», уловил мечту Екатерины, идущей по стопам Петра Великого, европеизировать Россию. Напротив, европейцы, включая Дидро, желали оставить Россию экзотичной. Пусть для процветания Россия станет новой Спартой. Или пусть она станет Византией эпохи процветания. К тому же, поскольку Россия пока ещё страна чужая, пусть моральные требования к ней, на время его пребывания в России, будут взяты в скобки. Крепостные рабы семо и овамо нисколько не затемняют картину, в общем и целом, позитивную.
В книге Заретски Екатерина описана чрезвычайно живо. Молоденькую девушку-подростка из Германии умчали куда-то на край земли, в Россию, и бросили там. Это был один из тех браков, заключаемых в те времена между правящими домами по необходимости. Понятно, что ей отчаянно не хватало работы ума. Она угодила в самый центр странноватого семейства, как в сцене королевского двора в «Игре Престолов». У ней появился собственный муж, будущий царь, умственно (и, видимо, сексуально) неполноценный, для кого всё счастье в постели состояло в игре в оловянные солдатики. Вскоре последовала, разумеется, целая серия любовников, от них пошли псевдонаследники престола, которых её властная и прагматичная свекровь, дочь Петра Великого, забирала и воспитывала, как своих собственных.
Из ожесточённых военных действий между вырождающимися генами и враждующими фамилиями (её муж в 1762 году процарствовал всего шесть месяцев, прежде чем скончаться при смутных обстоятельствах), единственный судьбоносный исход выразился в истинно альтруистических мотивах Екатерины, стремящейся осуществить свои династические амбиции.
Начитавшись Монтескьё — на самом деле откровенно скопировав его мысли для собственного проекта конституции России, знаменитого «Наказа» — она вознамерилась улучшить правление с помощью справедливых законов, и даже уверовала в правление с согласия управляемых. Дидро был её человеком, с кем она доведёт задуманное до ума.
Он восхитился её обширными знаниями, и она ответила: «Этому я обязана моим двум прекрасным учителям — двадцати лет безрадостности и уединения».
Дидро воображал, что с королевами следует обращаться не иначе, как с женщинами. Этого убеждения он придерживался, доходя порой до опасной черты.
Поначалу Екатерину это забавляло, затем его фамильярность стала вызывать досаду: «После беседы с ним у меня все бёдра в синяках. Пришлось поставить между нами столик, чтобы держаться от него подальше и уберечь конечности от его жестикуляций».
Жестикуляции Дидро могли объясняться его чрезмерным энтузиазмом.
Вначале они, конечно, были очарованы друг другом. «Какая великолепная у него голова,- повторяла она. — Неплохо бы всем мужчинам иметь такое сердце». Но вскоре у него наступило разочарование.

Лукавство всех просвещённых деспотов состоит в том, что они понимают свободу для своих подданных точно так же, как молодой Св. Августин понимал целомудрие для себя: они её хотели, но не слишком сильно.
Философ Дидро вручил Екатерине свой пламенный меморандум будущих реформ, объемлющий всё на свете, — от культивации ревеня до идеи профессионального обучения. Она слушала, нахваливала, и отложила бумаги в сторону.
Заретски приводит документы, объясняющие причины, почему либеральные реформы тогда, как и ныне, не пустили корни в России, при всех благих идеях Дидро и благоволении Екатерины.
Главная причина состоит в том, что Екатерина решила отложить реформы до того времени, пока ей не удастся консолидировать свою власть против дворцовых интриг. А это означало полный отказ от них, при всех финтах с созданием «посреднических сил», которые могли бы стоять между деспотом и народом.
Отношения закончились бесславно. Дидро вернулся на запад и написал книгу, в которой нещадно поносил ханжество Екатерины.
Об её проекте конституции он высказал следующее:
«Я увидел в нём отречение от имени деспота, при сохранении прежнего положения вещей».
Как следовало ожидать, Екатерина возмутилась и ответила резкостью.
Своего следующего визитёра она убеждала, что выслушав все добрые идеи Дидро, она под конец высказала ему:
«Вы работаете на бумаге, которая всё стерпит, а я, бедная императрица, работаю на человеческой коже, весьма чувствительной и раздражительной».
Метафора точна, но намного более безжалостна, чем предполагалось.Правители и впрямь работают на человеческой коже.
Испытания в России радикализировали Дидро. Из мыслителя и эрудита он превратился в либерала. До него дошло, что деспотов не сделать просвещёнными. И когда свершилась Американская революция, он её приветствовал так, как это было немыслимо десятью годами ранее. Его последние работы — философские диалоги «Племянник Рамо». «Мечта де Ламбера», «Монахиня», «Жак Фаталист и его Хозяин» были опубликованы на немецком только после его смерти.
«Племянник Рамо» — это фактически первый диалог между двумя разновидностями материализма — либерального и циничного — одинаково отрицающими суеверие и сверхъестественное, но радикально расходящиеся. Мы и сейчас живем в этом диалоге.
Некоторые из нас знают, что материальный взгляд на мир, лишённый его природного смысла, может породить только фатализм. Другие полагают, что материализм несёт в дар необъяснимые свободы.
Когда в 1778 году Дидро и Вольтер наконец-то встретились друг с другом в Париже, эти два вдохновителя Просвещения схватились в споре о Шекспире. Дидро принялся шутить, указывая на гигантскую статую Св. Христофора, некогда стоявшую у входа в собор Нотр-Дам, что, дескать, всем вольтеровским пьесам не достать до шекспировских яиц. Вольтеру это не понравилось, и они расстались в кислом расположении духа…
Этот эпизод служит напоминанием, что здоровье и витальность французского Просвещения зиждется на том, что оно родилось в любви и завершилось любовью к искусству и литературе.
Дидро не был острословом, но у него было чувство юмора, с которым он смотрел на мир. Его разрыв с Руссо произошёл по той причине, что он не принимал трезвых самооправданий Руссо, повернувшегося спиной к современному миру.
Имя Дидро останется напоминанием о том, что материальный мир, хоть и безрадостный, может стать магическим. Всё зависит от материала и от просвещения.
Перевод Ирины Вишневской


Рман Дидро опубликован на русском языке под названием «Нескромные сокровища» М.Наука.1992.